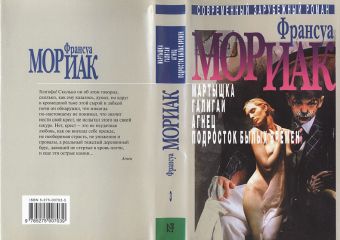Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]
Именно здесь Ив остановился и после некоторого размышления вымарал все до последнего слова, не предполагая, что этим мог совсем сбить с толку старшего брата. А тот вглядывался в эти иероглифы и, пользуясь тем, что его никто не видел, дал волю своему тику: сложенной ладонью он медленно водил по носу, по усам, по губам…
Вложив письмо Ива в свою папку, он посмотрел на часы: должно быть, Мадлен уже беспокоится. Он позволил себе еще десять минут побыть в одиночестве и тишине, взял книгу, раскрыл ее, вновь закрыл. А не делает ли он вид, что любит стихи? Все же время от времени он читал. Ив как-то сказал ему: «Ты совершенно прав, что больше не захламляешь свою память, необходимо забыть все, чем мы имели глупость ее напичкать…» Но то, что говорил Ив… С тех пор, как он стал жить в Париже, никогда нельзя было понять, говорит ли он серьезно или шутит, впрочем, возможно, он и сам этого не знал.
Жан-Луи увидел свет под дверью и понял, что у изголовья кровати горит светильник, это был немой укор; это значило: «Из-за тебя я не сплю; я предпочитаю дождаться тебя, чем быть разбуженной, едва заснув». Тем не менее он разделся, стараясь как можно меньше шуметь, и вошел в комнату.
Она была просторной, и, несмотря на насмешки Ива, Жан-Луи всегда заходил в нее с некоторым волнением. Впрочем, ночь покрывала и растворяла все подарки, бронзовые статуэтки и амуров. Мебель представлялась лишь каким-то размытым монолитом. Колыбелька, прикрепленная к огромной кровати, была похожа на лодочку, казалось, будто одного дыхания ребенка достаточно, чтобы надуть ее прозрачные занавески. Мадлен не дала ему извиниться.
— Я не скучала, — сказала она, — размышляла…
— О чем же?
— Я думала о Жозе, — ответила она.
Он был тронут. Теперь, когда он уже перестал надеяться, она сама заговорила о том, что его больше всего волновало.
— Дорогой, я кое-что придумала относительно него… Подумай, прежде чем сказать «нет»… Сесиль… да, Сесиль Фило… Она богата, она выросла в деревне и привыкла видеть мужчин, встающих до восхода солнца, чтобы отправиться на охоту, и ложащихся спать в восемь часов. Она знает, что охотника никогда нет дома. Он был бы счастлив. Как-то однажды он сказал мне, что она ему понравилась. «Мне нравятся такие вот женщины в теле…» Он так сказал.
— Он никогда не согласится… И потом, на будущий год его ожидает трехлетняя служба в армии… Он все мечтает о Марокко или о Южном Алжире.
— Да, но если он будет помолвлен, это его удержит. И потом, может быть, папа смог бы сократить срок его службы до одного года, как сыну…
— Мадлен! Прошу тебя!
Она кусала губы. Ребенок вскрикнул, она протянула руку, и колыбелька издала звук, похожий на скрип мельницы. Жан-Луи размышлял о желании Жозе отправиться в Марокко (оно возникло после того, как он прочел книгу Психариса)… Следовало ли удержать его или толкнуть на этот путь?
Внезапно Жан-Луи произнес:
— Женить его… а это неплохая идея!
Он думал о Жозе, но и об Иве тоже. Именно в этой теплой комнате, где пахло молоком, с ее обоями, обитыми креслами, в этом маленьком кричащем существе, этой молодой и плодовитой грузной женщине — вот в чем могут найти прибежище дети семьи Фронтенак, вылетевшие из родного гнезда и больше не охраняемые соснами летних каникул, не укрываемые ими от жизни в душном парке. Их, изгнанных из рая детства, удаленных от любимых ими лугов, прохладной ольхи, родников среди мощных папоротников, необходимо окружить обоями, мебелью, колыбельками, нужно, чтобы каждый из них рыл свою нору…
Все тот же Жан-Луи, который так стремился защитить своих братьев и найти им укрытие, каждое утро в преддверии ожидаемой войны выполнял физические упражнения, чтобы развить свою мускулатуру. Он беспокоился, сможет ли он вступить во вспомогательные войска. Никто бы не смог отдать свою жизнь легче его. Однако в семье Фронтенак все происходило так, точно братская и материнская любовь были неразрывно связаны или словно и у той и у другой был единый источник. Забота Жана-Луи о своих младших братьях и сестрах, и даже о Жозе, которого так манило в Африку, забота, полная волнения и тревоги, была сродни заботе их матери. Особенно в этот вечер: немое отчаяние Жозе, молчание, вылившееся в бурное выражение чувств, взволновали его; однако, пожалуй, меньше, чем перечеркнутые страницы Ива, вместе с тем письмо попрошайки-работницы, похожее на многие из полученных им прежде, задело его глубже всего, разбередило рану. Он еще не вполне смирился с тем, что надо относиться к людям так, как они того заслуживают. Их наивное подхалимство его раздражало, и особенную боль ему доставляли их неуклюжие попытки изобразить религиозность. Он помнил того восемнадцатилетнего парня, который попросил быть ему крестным отцом, которого он самолично и с такой любовью наставлял… А несколько дней спустя ему стало известно, что его крестник уже был крещен протестантами, таким образом, деньги, которые предназначались для крестин, он оставил себе. Наверняка Жан-Луи знал, что то был особенный случай и что чистые души не лгут; его неудача или, скорее, просчет в области психологии, некая неспособность давать людям верную оценку, всегда обрекали его на подобного рода злоключения. Его застенчивость, проявлявшаяся в отсутствии гибкости, отдаляла от него простых людей, но не отпугивала ни льстецов, ни лицемеров.
Лежа на спине, он смотрел в потолок, мягко освещенный лампой, и чувствовал свою абсолютную неспособность изменить что-либо в чужой судьбе. Его братья, вероятно, осуществят в этом бренном мире то, зачем они сюда явились, и любые повороты непременно приведут их туда, где их ждут или кто-то их подстерегает…
— Мадлен, — спросил он вдруг вполголоса, — веришь ли ты, что возможно что-то сделать для других?
Она повернула к нему свое полусонное лицо, убрала волосы.
— Что? — спросила она.
— Я хочу сказать, считаешь ли ты, что после многочисленных усилий можно было бы изменить, пусть хоть чуть-чуть, судьбу какого-то человека?
— О! Ты только об этом и думаешь, изменить других, поставить их на другое место, внушить им идеи, отличные от тех, которые они имеют…
— Возможно, — он рассуждал сам с собой, — я только укрепляю их в их пристрастиях; когда я полагаю, что сдерживаю их, они собирают все свои силы для того, чтобы рвануть в своем направлении, противоположном от того, которого хотелось бы мне…
Она подавила зевок:
— Ну и что из этого, дорогой?
— Если верить Сене, эти грустные и нежные слова Иисуса, обращенные к Иуде, похоже, подталкивают его к двери, заставляют поскорее выйти…
— Тебе известно, который сейчас час? Уже за полночь… Завтра утром ты не сможешь встать.
Она потушила лампу, а он лежал в полумраке, словно на дне моря, ощущая на себе всю его невероятную тяжесть. Его подхватил вихрь тревоги и одиночества. Вдруг он вспомнил, что забыл прочесть свою вечернюю молитву. Тогда этот взрослый мужчина сделал в точности то же самое, что сделал бы, если бы ему было десять лет: он тихо встал с постели и опустился на колени на коврик перед кроватью, зарывшись головой в простыни. Ни единый вздох не нарушал тишины, ничто не указывало на то, что в комнате спали женщина и маленький ребенок Воздух был тяжелый, наполненный различными запахами, поскольку Мадлен, подобно всем деревенским жителям, опасалась воздуха с улицы; ее мужу пришлось привыкнуть больше не открывать окно по ночам.
Он начал с обращения к Святому Духу: «Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende…».[1] Однако, пока его губы произносили эти удивительные слова, он прислушивался лишь к тому спокойствию, которое было ему хорошо знакомо и которое просачивалось из всего его существа, подобно тому, как просачивается сквозь землю вода в истоке реки: да, к спокойствию бурному, захватывающему, покоряющему, похожему на воды родника. И по опыту ему было известно, что не следует допускать ни малейших раздумий, а также поддаваться чувству ложного унижения, которое заставляет говорить: «Это ничего не значит, это поверхностные ощущения…» Нет, не надо ничего говорить, нужно просто принять это ощущение, и никакая тревога не выдержит… Какое все же безумие думать, что очевидный результат наших усилий, каким бы маленьким он ни был, тоже имеет значение… Но действительно имеет значение только это жалкое усилие само по себе, чтобы удержаться у руля, чтобы его выправить, — особенно чтобы его выправить… И неведомые, непредсказуемые, немыслимые плоды наших поступков проявятся однажды при свете дня, плоды, выброшенные на свалку, подобранные с земли, плоды, которые мы не осмелимся никому преподнести… Мимоходом он заглянул в глубины своего сознания: да, завтра он сможет причаститься. После этого он расслабился. Он знал, где находился, атмосфера комнаты все еще продолжала влиять на него. Только одна мысль никак не давала ему покоя: мысль о том, что сейчас он уступал гордости, он искал удовольствия… «Но если бы это был Ты, Господь мой…»


![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/138346/138346.jpg)
![Франсуа Мориак - Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/136407/136407.jpg)